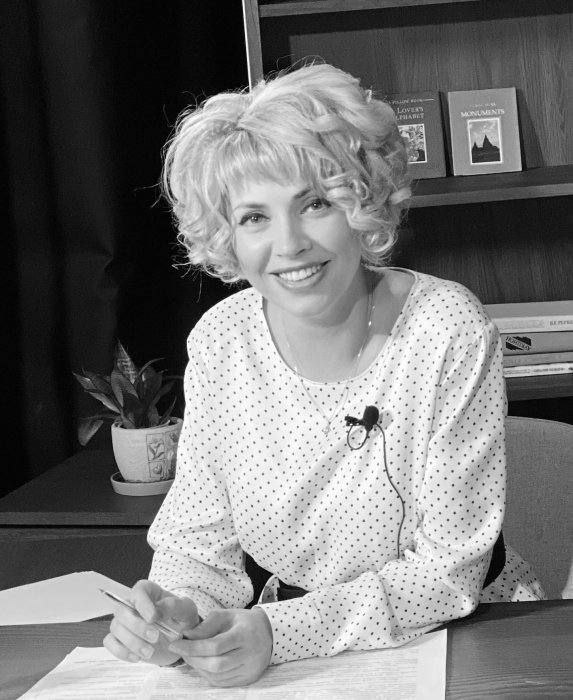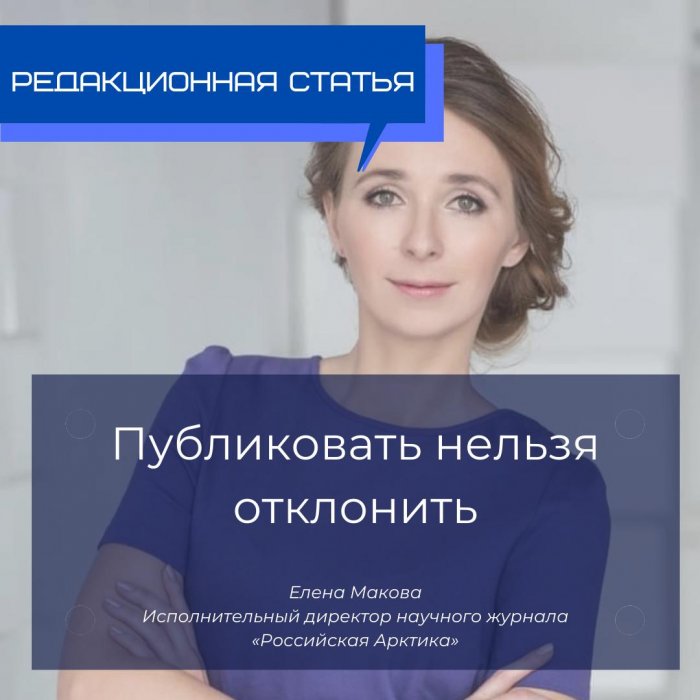Можно было предположить, что с точки зрения избыточной смертности текущая пандемия будет иметь несколько менее тяжелые последствия в Арктике, чем в средней полосе, из-за меньшей доли пожилых в населении арктических регионов. Имеющиеся данные показывают, что Арктика действительно отстает по этому мрачному показателю от плотно населенного (и с низким уровнем медицины) Северного Кавказа, столичных городов и группы крупных индустриальных регионов. И все же данные по Арктике выше, чем можно было бы ожидать. Очевидно, сказывается и повышенная подвижность населения Арктики, и сложности с обеспечением медицинской помощью и т.д. К тому же, по всей видимости, последствия локдауна окажутся тяжелее, чем в других регионах, и в первую очередь для малого бизнеса. И без того более уязвимое арктическое предпринимательство пострадает, очевидно, сильнее, чем в районах с более развитыми рынками. В чем здесь урок на будущее? Зачастую утяжеление социальных и экономических последствий пандемии может быть связано с «лобовым» копированием мер крупных городов без оглядки на специфику Арктики – яркий пример здесь – введение дистанционного обучения школьников в изолированных поселках, зачастую без стабильной интернет-связи; очевидно, что там, где единственная связь с внешним миром – это вертолет раз в две недели, было бы логичнее упирать не на изоляцию и без того изолированных от внешнего мира людей друг от друга, а на карантинных мероприятиях «на входе» на территорию; в первую очередь – на жесткий контроль вылетающих в удаленные районы. Здесь перманентная проблема – транспортная изоляция – может и должна обернуться преимуществом в методах борьбы с потенциальными пандемиями. Сложнее, но все же можно было сделать упор на контроль «на входе» и в более крупных транспортно изолированных районах: в Норильске, в Салехарде, на Чукотке и т.д. Очевидно, что именно здесь большей эффект должен был дать персональный контроль контактов, нежели общий локдаун (особенно странный для промышленных городов с работающими градообразующими предприятиями – по всей видимости, вносившими больший вклад в распространение заболевания, чем и без того «жиденькая» сеть кафе). В этом огромное отличие арктических городов от крупных урбанистических центров, где как раз уличная толпа, мощная и разветвленная сфера услуг и городской транспорт стали главными каналами контактов населения.
Сейчас много говорят о возможности новых пандемий – хочется, чтобы в будущем была бы большая гибкость в принятии решений в отношении мер борьбы для специфических арктических случаев: удаленные и изолированные поселки, вахтовые поселки и т.д. Попутно должны быть сделаны выводы об обеспечении резервов, дополнительных возможностей автономной жизни удаленных и изолированных поселений в течении более длительного времени, чем сегодня – и напротив, с утроенной силой нужно работать над усилением информационной связности территории, проведением, наконец, современной интернет-связи в «глухие» районы Арктики. Но самое главное – это то, что пандемия снова, и с удвоенной силой показала необходимость специальных режимов и норм управления Арктикой. Показала насущную, жизненную необходимость большей самостоятельности местным сообществам, местным акторам в принятии решений, более адекватных арктическим условиям, чем внешние типовые решения.
Н.Ю. Замятина